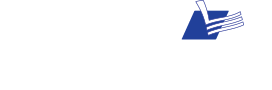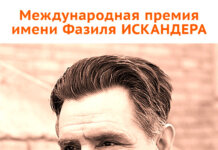Источник: «Литературная Россия»
15 февраля этого года ушла из жизни поэтесса Елена Александровна Кацюба, жена и соратница Константина Кедрова. Соответственно, прекратился выход ещё одного поэтического издания – «Журнала ПОэтов», дизайнером и литературным секретарём которого была Елена. Такой контекст нашей встречи с Кедровым предопределил направление беседы. В квартире в Гнездниковском переулке не хватало гостеприимной хозяйки и постоянной участницы наших разговоров, но одновременно всё напоминало о ней и её незримом духовном присутствии. Неудивительно, что наша беседа то и дело сбивалась на религиозно-метафизические темы.
– Константин Александрович, полгода как с нами нет Елены. Как вы справляетесь с такой утратой?
– С трудом. Недавно написал такое четверостишие: «Нелепо всё в пространстве городском/ Где я один без Леночки грущу/ Теперь мой дом на кладбище Донском/ А в Гнездниковском я пока гощу». Вся моя жизнь подчинена теперь только лишь одной цели: как-то сохранить творческое наследие Лены. Я считаю, что она гений, настоящий гений, ни на кого не похожая, как заметил в своё время Евтушенко и не только он. Вознесенский сказал: «Если бы Хлебников жил сегодня, он писал бы как Кацюба». Вы знаете, было трудно жить с ангелом, но без ангела ещё труднее. А она 55 лет была моим ангелом. Я не знал вообще ничего земного, только творчеством занимался. Теперь я вынужден заниматься тысячью мелочей. Удивляюсь: как же она всё успевала, как она всё это несла? И хозяйство было в порядке, и я был всегда одет, обут, в чистоте и накормлен. И при этом она выполняла титанический труд – «Журнал ПОэтов» выпускался в течение 30 лет! Один человек выполнял работу, которая не всякому издательству под силу. Вот у Катаева есть роман «Время, вперёд!», а у меня время назад. Всё самое лучшее – там, в прошлом. Я устремлён туда.
– Вы выпустили новую книгу «Восьмигласие мироздания», состоящую из двух частей – ваших философских эссе и избранных стихов Елены. Я, кажется, читал все ваши книги по мере выхода, и меня сложно чем-то удивить. Но эта книга воспринимается по-новому и читается с упоением.
– Я адаптировал свои книги «Поэтический космос», «Эйнштейн без формул», «Инсайдаут», взял самое главное и подчинил композиции восьми гласов, поскольку моя поэтика, собственно, – это восьмигласие церковное, православное восьмигласие. Это ключ к моей поэзии, но, кроме того, ключ ко всему мирозданию. Вот недавно были зарегистрированы предсказанные Эйнштейном гравитационные волны. Он не верил, что мы когда-нибудь сможем их уловить, но вот сумели. С моей точки зрения, это носители – материальными их назвать невозможно – нематериальные носители совсем уже нематериального Святого Духа, который дышит, где хочет. В книге восемь гласов, которые как восемь струн пронизывают мироздание. Это я постарался сделать видимым и слышимым, как и в предыдущих книгах, но сосредоточившись на новейших открытиях. То, что поймали гравитационные волны, означает, что можно создать времявизор. Когда радиоволны открыли и обнаружили, оказалось, что можно передавать голос и изображение на большие расстояния. Поначалу все крутили пальцами у виска. Но сейчас мы смотрим телевизор и слушаем радио. Гравитационные волны пронизывают всё мироздание – от момента сотворения до наших дней. Когда-нибудь мы сможем включить времявизор и увидеть, например, Москву времён Ивана Грозного. Фактически это будет победа над временем, которую предсказывал Хлебников, когда говорил о волнах временных на граммофонных пластинках.
– Меня, как физика по образованию, поразили искусно подобранные примеры и цитаты из работ астрофизиков. Вы цитируете Иосифа Шкловского, Ивана Климишина и многих других. Как вы впервые соприкоснулись с современной космологией?
– Вы будете очень удивлены, но первая книга, которая меня настроила на космологический лад, это Евангелие, конечно, – после этого, как говорил Гоголь, «стало видно далеко во все концы света». Вторая же книга была издана в 1957 году, когда мне было пятнадцать лет, – это книга Владимира Львова «Эйнштейн» в серии ЖЗЛ (согласно справочным данным, эта книга вышла в 1958 году. – М.Б.). Примерно в то же время прошла первая выставка Николая Рериха. И помню, что пережил необычное состояние, словно бы почувствовал излучения, которые идут из космоса и возвращаются в космос. Тогда я написал: «Я взглянул окрест и удивился/ Где-то в бесконечной глубине/ Бесконечный взор мой преломился/ И вернулся изнутри ко мне». Зафиксирован сам момент – это 30 августа 1957 года. После этого я ещё нырнул в геометрию Лобачевского, чтобы понять, как на вогнутой гиперсфере всё преломляется. А много лет спустя прочитал в письме своего двоюродного дедушки Павла Челищева об «ангелической перспективе». Вот у Леонардо всё идёт от человека вдаль. А почему именно вдаль, не внутрь человека? Почему всё видится спереди? Почему не сверху, снизу, сбоку – как в ёлочном шарике всё отражается? И Павлик назвал это «ангелической перспективой». Картин его я ещё не мог видеть, это произошло позднее.
– Чем ангелическая перспектива отличается от изображения предмета сразу со всех сторон, с нескольких ракурсов, как, например, у Пикассо?
– Ничем не отличается, они все вместе были, вокруг Гертруды Стайн группировались. Пикассо, Дали, Челищев, Джойс – это была одна компания. Но Пикассо и Дали теоретически это никак не обосновывали, а у Павлика это было в письме, посланном моей тётушке Варваре Фёдоровне Зарудной-Челищевой.
– У Челищева всё светится изнутри каким-то благостным светом, а у Пикассо какая-то мертвечина, апофеоз разрушения и разложения…
– Ну, это так воспринято. Это может быть и разрушение, если речь идёт о «Гернике», но, в принципе, это та же ангелическая перспектива. Как теоретик её открывает Павлик. Как это произошло? Мой прадед, калужский помещик Фёдор Сергеевич Челищев, был по образованию математиком, ему была предложена должность приват-доцента МГУ, он с отличием защитил диплом, но уехал в своё имение Дубровка, где и родился Павлик, моя бабушка, а потом и моя мама. Ну а математик, конечно, не мог не рассказать своему сыну про геометрию Лобачевского. Павлик начал рисовать в пятнадцать лет, вначале ничего особенного не было, но уже через несколько лет появляются элементы этой перспективы. Окончательно он к ней пришёл в 1928 году, когда был художником-оформителем балета «Ода» на слова Ломоносова «Вечернее размышление о Божием величестве». Это был последний балет дягилевской труппы. Серж Лифарь и остальные вытанцовывали вокруг мирового шеста, закреплённого на прозрачных канатах, светящихся к тому же. Балет состоялся, но все ждали петушков и курочек, как обычно, а тут было что-то космическое. Нельзя сказать, что балет провалился, но он не имел такого головокружительного успеха, как дягилевская «Жар-птица». Павлик сказал, что открыл дверь в космос, в мироздание, но никто в неё не вошёл. Гертруда Стайн ответила: придёт время, все поймут и войдут.
– Вам нравится её «Роза – это роза это роза это роза…»?
– Это ближе к тому, что мы называем концептуализмом. Стайн была большая умница, но она не была мистиком. А Павлик – это православный мистик. Собственно, Сальвадор Дали взял у него все приёмы, абсолютно все. Павлик по этому поводу переживал. Это не сказалось на их отношениях, но Павлик за семь лет до Дали стал всё это использовать в своих картинах. И он переживал, что у художников не так, как у физиков: вот сделал открытие, зафиксировал приоритет…
– Напоминает, как Егор Радов переживал из-за Виктора Пелевина…
– Это подобная история, у Пелевина практически все приёмы – от Радова. А Радов очень многое взял… прямо скажу, из моих лекций, он был очень чутким и тонким…
– И всё же мне сложно представить вас, сидящим над книгой «Релятивистская астрономия», выписывающим примеры и цитаты…
– Ну, за это благодарите гравитационные волны…
– То есть, в самом деле, сидели и штудировали?
– Да бог с вами! Штудирование – это не моё. В советское время помню, захожу в «Академкнигу», она здесь на углу была, и перед лекцией покупаю исследование Вера четырёх измерений
Сибирской академии наук «Первобытные культуры», кажется, так оно называлось. Открываю и сразу попадаю на карту звёздного неба на камне…
– Петроглиф какой-то?
– Да, там котёл, а по сторонам – восходящее и заходящее солнце. Мне сразу стало понятно: небо – это котёл, солнце, погружающееся в котёл, – это дохристианское крещение. Становится понятным христианское крещение как погружение в котёл звёздного неба. Становится понятным, как Иванушка окунается в котёл с кипящим молоком, молоко – это Млечный путь. Всё сразу открывается, но я же открыл страницу наугад! Потом весь этот сборник пролистал: ничего больше меня не заинтересовало. И так всю жизнь. Я просто открываю книгу на той странице, которую мне подкинул… называйте как угодно: Космос, Природа или Бог, смотря в какой системе это мыслить.
– Но поразительно, как у вас органично сочетаются поэты и философы Серебряного века, космологи и астрофизики…
– Отчасти это продиктовано конспиративными соображениями. Я же не мог в советское время прямо сказать, что Святой Дух пронизывает всё мироздание. Вполне естественно, что, когда я читал Эйнштейна или про Эйнштейна, какие-то цитаты встречались. Они запомнились, потому что это для меня главное. Если я хочу что-то запомнить, я не запомню этого вовек, я запоминаю только то, что само запоминается.
– По вашей книге видно, что в современной космологии больше поэзии, чем во всей современной литературе. Почему никто из современных литераторов этого не чувствует?
– Согласен. Я сразу понял, что в теории относительности, и в частной, и в общей, а тем более в квантовой физике и в теории струн в тысячу раз больше поэзии, чем в современных стишках… Этого я не могу сказать о Маяковском, этого я не могу сказать о Хлебникове. Им Давид Бурлюк рассказал о теории относительности. Бурлюк – это наш Леонардо российско-украинский, как хотите его называйте. Он их всех просветил, а они, будучи натурами гениальными, всё сразу поняли. Последние слова Хлебникова, записанные его рукой: «Я пишу сейчас засохшей веткой вербы… Но самое крупное светило на небе событий, взошедшее за это время, это «вера четырёх измерений»…» Имеется в виду только что опубликованная общая теория относительности, с которой он успел ознакомиться. Как раз в общей теории относительности предсказано, что раз пространство-время от присутствия массы искривляется, то должны быть волны.
– А современные поэты, они совсем не любопытны? Такое ощущение, что всё мимо них проходит…
– Отчасти я это объясняю тем, что теория относительности и квантовая физика на территории СССР долго оставались крайне нежелательными. Физики могли ими пользоваться в чисто математическом смысле, ну, хотя бы, чтобы бомбу делать. Ведь это же чистейший идеализм, никак не материализм, волны гравитационные, которые невозможно пощупать! Это же полное крушение их марксизма-ленинизма! Они были сказочно необразованными, но что это удар по их идеологии – это они понимали. До сих пор в школах долго и нудно изучается Ньютон. Ньютон, конечно, гений и от его закона всемирного тяготения дух захватывает, но одновременно это сопровождается страшнейшим заблуждением о существовании абсолютного пространства, абсолютного времени, где человек пылинка в бульоне, как моллюск в океане. И это с первого до последнего класса вдалбливается как мировоззрение. В результате и на бытовом уровне человек начинает ощущать себя козявкой. Потом вырастают поэты, которые ощущают себя козявками и пишут соответствующие стихи…
– А может быть людям нравится ньютонианский мир, убогий, без метафизики, за пределами которого нет ничего, зато в котором есть общество потребления и деньги для курорта или ресторана. Может быть, их именно такой мир устраивает?
– Если бы им с детства показывали мир таким, какой он есть с точки зрения квантовой физики и теории относительности, то, конечно, это были бы другие люди. А им вдалбливают, что они некая биомасса, некая материя, манная каша, которая кипела, кипела и сама себя сварила. Что ожидать от таких людей? Человек существо духовное, он не есть человек, пока его не обучат, пока в него не вложат систему ценностей, систему представлений о пространстве и времени. Я смотрел учебники, там по-прежнему пережитки мичуринства, по-прежнему человек из обезьяны в результате трудовой деятельности возникает. Это великие заблуждения XIX века, XVIII века. Почему они так устойчивы в учебниках, я не знаю. Инерция. Я не вижу тут заговора, просто действие инерции…
– С некоторыми моими знакомыми происходят странные вещи, один стал фанатичным дарвинистом, другая (которую я считаю гениальнейшей личностью) вдруг выпускает книгу «Записки материалиста». Может, людям не нужно метафизики и космоса, они хотят, причавкивая, в материальной грязи копошиться?..
– Это всё жертвы чудовищной дезинформации, которая в свою очередь является следствием инерции и лености ума. Что калечатся целые поколения – это, вне всякого сомнения, так. Раньше это делалось, чтобы сохранить в неприкосновенности марксизм-ленинизм. Я не имею возможности посмотреть западные учебники, но там, по крайней мере, хорошие фильмы есть. Можно вспомнить фильм о приключениях школьника во времени… «Назад в прошлое». Достаточно этого фильма, чтобы соприкоснуться с современной физикой.
– У нас есть «Гостья из будущего».
– Ну, там не на этом построено. У нас приключения, а другой философии, иного понимания времени и пространства – вот этого нет. Нет подлинной картины мира, как она в современной науке даётся, я уж про религию не говорю.
– Вы же видите, как литературоцентризм сменяется аудиовизуальной культурой, книги исчезли из домов. Я как преподаватель вижу: новое поколение не читает ничего. Получается, можно жить без литературы, без метафизики, без понятия о трансцендентном?
– Всё не так драматично. Они клипово эти вещи получают, просто форма подачи изменилась. Мы добывали это из пудовых томов, а они – из клипов, порциями. Переместилось всё на зрение, на глаз. XIX век был рассчитан на чтение «про себя». Они это разучились делать, им нужно обязательно видеть экран, на экране что-то должно происходить, но при этом они могут получать ту же самую информацию. К чему бесплодно спорить с веком? Это всего лишь форма подачи информации, создавайте клипы с изложением своих идей. Кстати, клипы часто бывают низкого качества, как всё массовое… но бывают изумительные клипы, полностью соответствующие современному восприятию. Это не убьёт книгу, тут я спокоен. Когда возникло кино, все сказали: боже, как же теперь театр, пропал театр!
– Всё равно он перестал прежнее значение иметь, давайте признаем.
– Трудно сказать. Я помню, как все рвались в театр на Таганке, на «Мастера и Маргариту». Кстати, все спектакли Любимова – это клипы. Он об этом не задумывался, что это клипы или не клипы, теорию относительности и квантовую физику не знал, но как режиссёр он переходил на этот язык, язык XXI века, все его последние спектакли – клиповые. Критика ничего не поняла, ничего толкового не сказала, а ведь Любимов – раскрученное имя, мировое, знаковое. Критика не поняла, а зритель шёл, зал был всегда переполнен, билетов не достать. Дело не так трагично. Кино – это для всех, телевидение – ещё более для всех, интернет – это вообще для всех, а театр – для избранных, книга – будет для элитарно продвинутых.
– Но вы лично себя лучше чувствовали в эпоху литературоцентричную?
– В эпоху литературоцентричную я был отлучён от литературы, запрещён к печати и к приёму в Союз писателей… Так что я ничего от литературоцентричной эпохи не получил, кроме неприятностей с КГБ.
– Но многие ностальгируют о временах, когда на литературе можно было карьеру сделать, дачи и квартиры раздавали…
– И в тюрьму можно было попасть или в ссылку, как Бродский…
– Вот совсем недавно умер замечательный писатель Игорь Яркевич. Он фактически всю жизнь в нищете прожил. Это лучше?
– С гениальным другом и единомышленником в том, что касается литературы, с Игорем… немного другая трагедия получилась. Он ещё успел вкусить этого пирожка. Чуть-чуть куснуть. И казалось всё – жизнь состоялась, он член Союза писателей, его цитируют, исследования по его творчеству выходят, его любит интеллектуальная элита, путёвки, скидки, лекции, популярность, тем более что Яркевич писал такие весёлые тексты. Ему гарантировано было всё. И вдруг бабах! Союз писателей обрушился. И он с этим справиться не смог. Психологически он всё продолжал «вот мы, поколение 90-х», он мыслил этими категориями…
– Его личные особенности сыграли роль или совершенно ненормальная ситуация, в которой оказалась литература и общество?
– Ситуация ненормальная, но он просто попал на слом. В странах, находящихся на сдвиге двух платформ, постоянно землетрясения, а он попал на временной слом. Меня исчезновение коврижек не задело, я их вообще не видел. Я всеми силами пытался перетащить Яркевича в наше время, объяснить, что нужно жить по-другому и не смотреть в сторону государственной кормушки. Он не смог, ему казалось, что всё восстановится, «устаканится». А потом последовал закон о запрещении табуированной лексики. Он говорил: «это мой приговор». В его романе «В пожизненном заключении» переделали табуированную лексику, для него это смерть, варварство, ужас…
– В прежние столетия литератор мог жить литературной деятельностью, сейчас, кроме нескольких политизированных фигур, никто не живёт литературой. Это и на качестве текстов сказывается.
– Помещик Некрасов, помещик Тургенев, помещик Пушкин… да, это сделало возможным феномен русской классической литературы.
– Но разночинцы тоже зарабатывали, как-то выживали. Писатель, который хочет только творчеством заниматься и не слишком социально адаптирован, как Яркевич, просто обречён.
– Чисто литературным трудом почти никто не жил. Если посмотреть на европейскую литературу, там почти все преподают. Набоков преподавал, Аксёнов преподавал. Я преподаю. И вы преподаёте. А что ещё остаётся? Вот Набоков «Лолиту» написал ради денег: надо вам этого, пожалуйста! Поймал волну. Доходов ему хватило, чтобы поселиться в гостинице. Но гостиница – это ад, с каким наслаждением он эту гостиницу спалил в «Бледном пламени»…
– Вы согласны, что в конце 80-х – начале 90-х был краткий период, который можно назвать Бронзовым веком? Наш общий друг – покойный Олег Фомин – даже журнал с таким названием издавал.
– Он там напечатал мою вещь «Сулебко. Записки юродивого».
– Но был Бронзовый век, или его не было?
– Категорически против этого обозначения. Всё это исходит из ложного ориентира, что Пушкин – это Золотой век, Хлебников – это Серебряный, а мы – это вообще Бронзовый, только что не олово и не дерьмо собачье. Чепуха! Если выстраивать, то наоборот, потому что литература становится всё более просветлённой и усложнённой, как физика становится всё более и более… знающей, что ли. Возьмите любую книгу писателя XIX века и сравните это с Набоковым!
– Во время «Спора древних и новых» говорилось, что это мы зрелые и опытные, а они никакие не древние, а юные и наивные…
– Вот именно. Говорят «древнерусская литература», но она не была древней, она была юной. Древняя Греция – абсурд, какая она древняя, если она юная! Человечество в целом умнеет, это – несомненно. Во-первых, больше перерабатывается информации. Мы с Сергеем Капицей это много раз обсуждали. Он обосновывал, что скорость обработки информации зависит от численности населения, и нашёл информационный оптимум – примерно 15 млрд. Дальше подсчитал, достаточно ли для этого ресурсов, оказалось, что достаточно. Вот Россия из импортёра американского испорченного зерна уже экспортёром стала, вернула себе дореволюционное положение. Нужно было всего лишь мозги от колхозного безумия исцелить. И действовать по рекомендациям учёных, а не идеологов и политологов…
– Хорошо, допустим Бронзовый век – неудачное название, но была на рубеже веков какая-то вспышка креативная? Появился русский постмодернизм, который что-то новое привнёс…
– Да не что-то новое, а всё.
– А потом снова спад – тупой реалистический нарратив…
– Но ни в природе, ни в обществе не бывает так, чтобы был подъём-подъём-подъём, есть остановки, паузы. Пелевин и Сорокин наиболее известны, но были и Яркевич, Радов, Нарбикова, мои птенцы – Парщиков и Ерёменко, многие другие, «Журнал ПОэтов» – тому свидетельство.
– А как вы к Галковскому относитесь?
– У него много русофобского, это как бы взгляд на Россию западно-украинского человека. Такая установка была отчасти свойственна и Парщикову. Типа у нас всё отсталое! Но это хорошая встряска. В XIX веке такую роль сыграли статьи Писарева о Пушкине. «Печной горшок тебе дороже, ты пищу в нём себе варишь». Ага, а тебе не нужен печной горшок, тебе подают пищу на фарфоровой тарелочке! Но встряхнула статья чинопочитание литературное. Не сотвори себе кумира – великая библейская заповедь. Ни из Пушкина, ни из Тургенева, ни из Достоевского – всё это люди с грузом своих человеческих заблуждений и гениальных прозрений.
– А почему потом все снова на реалистический нарратив вернулись? Александр Генис в блестящей статье «Иван Петрович умер» утверждал, что ныне нельзя писать фразами вроде «Иван Петрович встал со скрипучего стула и подошёл к распахнутому окну». Ну, и что в итоге? Иван Петрович не умер, он почти в каждой книге выглядывает из распахнутого окна, живее всех живых…
– Это востребовано массой, а масса всегда эстетически неразвита. Мы говорим «Эпоха Возрождения», как будто все там были Леонардо. Леонардо был Леонардо. Был Папа, который понимал, что Леонардо – это Леонардо. Был король Франции Франциск, который тоже это понимал. А что массы понимали в Леонардо? Они любовались фривольными картинками соответствующими. Или вот голландцы очень любили изображать тарелочки с лучком, копчёной рыбкой и так далее.
Я в этом ничего страшного не вижу. Есть литература и есть беллетристика. Последняя будет востребована всегда. Массы нужно эстетически развивать, просвещать, но никто этим сейчас не занимается. Телевидение отказалось от просветительства. Одно дело отказаться от идеологии, но этого как раз не произошло, телевидение отказалось от просветительства. И превратилось в выгребную яму.
– Перед 90-ми годами был такой момент, когда верилось что вот-вот войдут в оборот все философы Серебряного века: Соловьёв, Флоренский, Лосев, Франк, Бердяев, Лосский, и начнётся небывалый расцвет русской религиозно-философской мысли. Но этого не произошло.
– Мережковский мечтал, чтобы интеллигенция и церковь соединились в братских объятиях. Но официальная церковь осталась к этому холодна. Теперь церковь обрела самостоятельность в духовных вопросах, но этот холодок до сих пор остался.
– Если бы мне кто-то доказал, что есть только материя и нет ничего трансфизического, то есть что Вселенная – это просто картезианская самоиграющая шарманка, механический (да хоть и квантово-механический) балаганчик, я бы наверное покончил самоубийством…
– Разумеется, кому охота быть шестерёнкой в часах. Но я не могу представить, чтобы мне доказали такую галиматью. Я всегда ощущал себя чем-то самоценным, имеющим душу, а не какой-то шестерёнкой, материей дурацкой. Я всегда ощущал присутствие Бога. Не только в храме. Христос говорил «что пользы человеку, если он весь мир приобретёт, а душу свою потеряет». Вот и ответ.
– Может быть, существуют люди, у которых потребность в метафизическом атрофирована? Вы слышали про таких учёных, как Докинз, Деннет, «новых атеистов»?
– Сергей Капица тоже был атеистом. Но не всё так просто. Мой научный руководитель Кирпотин говорил, что он марксист. Вы марксист, Валерий Яковлевич, но ведь, если бы не было Христа, не было бы никакой истории? Да, отвечает, без Христа не было бы никакой истории. Ну, я и понимаю, что он атеист только по названию. Говорю Капице: допустим, что Бога нет, но вы же не отрицаете, что Бог существует как метафора и если эту метафору убрать, всё рухнет, не о чем будет говорить? Да, как метафору признаю, отвечает Капица. Снова выясняется, что умный атеист – атеист только по названию. Гинзбург говорил: я атеист, но не безбожник.
– Оксюморон какой-то…
– Если Бога нет, то зачем всё? Если человек это понимает, то неважно, как он себя называет – атеист, материалист – или какую идеологию он исповедует. Но в том-то и дело, что есть те, кто подобно советским руководителям, не просто атеисты, но ещё и безбожники, они принципиально с Богом борются.
– Даниил Андреев их просто проводниками тёмных сил считал.
– Они и были сатанистами, до конца не осознававшими своей привязанности к этому персонажу.
– В современной космологии считается, что Вселенная будет бесконечно расширяться, плотность вещества будет постоянно падать и, в конце концов, всё замрёт, все процессы прекратятся. Вас это не смущает?
– С этой мыслью я примиряюсь, потому что Христос на кресте умер. Если богочеловек умер и умер в страшных мучениях, то смерть неизбежна и страдание неизбежно. Но неизбежно и воскресение. Есть, соответственно, и райская жизнь.
Беседу вёл Михаил БОЙКО